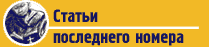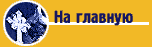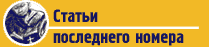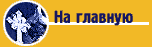Протоиерей Максим Иванов |
Молодой, улыбающийся,
слишком активный
Когда я первый раз увидела отца Максима, спросила, не является ли он родственником иеромонаху Владимиру (Шикину), неутомимому труженику Серафимо-Дивеевского
монастыря, – сходство уж слишком очевидно.
На что отец Максим ответил: «Нет, не родственник». Позже оказалось, не я одна так
считала. В частности, одна из прихожанок,
описывая его, рассказывала: «Батюшку Максима вы сразу узнаете, он вылитый монах
из Дивеево, о котором все пишут».
Отец Максим буквально летал и
светился от счастья, везде успевал,
со всеми общался
В Вознесенско-Георгиевский храм, расположенный в старой части Тюмени, отец
Максим пришел молодым, улыбающимся и
слишком активным. Он буквально летал и
светился от счастья, везде успевал, со всеми
общался. Там полным ходом шли реставрационные работы, пол не везде был постелен,
потолок имелся только по центру, но все
равно возникало чувство чего-то свершившегося. История храма, увы, во многом типична
для нашей страны: построен он был в XVIII
веке, в 1929 году закрыт, здание использовалось как клуб кожевенников и химиков, потом было передано овчинно-шубному заводу.
И, судя по резкому запаху, который в нем
стоял долгое время после возвращения Церкви, видимо, в святом месте хранили не только
овчину, но и горюче-смазочные материалы.
Примечательно, но всегда находились люди,
которые с удовольствием в храме убирали,
белили, штукатурили. Мои первые церковные
послушания связаны именно с Вознесенско-Георгиевским храмом. А 21 октября 2006 года
в тайнике были обретены честные мощи
просветителя Сибири митрополита Филофея
(Лещинского), считавшиеся долгое время
утерянными. Когда их торжественным ходом переносили в Свято-Троицкий мужской
монастырь, было настолько многолюдно, что
вантовый пешеходный мост через реку Туру
буквально дрожал.
Говоря об этом храме, нельзя обойти и
другую святыню – икону Иоанна Тобольского.
Ее, вернее то, что от нее осталось, вернули
в начале нулевых из Курганской области,
куда в том же 1929 году перевезли вместе
с другими и постелили на… скотном дворе.
Икона лежала лицевой стороной, и по ней
ежедневно ходили люди, коровы… Спустя
десятилетия от иконы осталась доска с надписью на обратной стороне, ее очистили,
отмыли, вернули на прежнее место, и она
стала обновляться. Сначала неясные очертания, затем лик, а после постепенно начали
виднеться глаза, подбородок.
В эту со всех сторон окружающую нищету и вошел отец Максим с молоденькой
матушкой Юлией. Поселились они в домике
на церковной территории, кажется, позапрошлого века, который очень трудно назвать
благоустроенным, хотя водопровод вроде
бы там был.
Сразу в храме сделалось многолюдно,
а правильнее – многодетно. Стали постоянными венчания, крещения, молебны перед
новообретенной иконой Иоанна Тобольского.
Молодой батюшка мог за тридевять земель
запросто поехать на исповедь, отпевание,
освящение квартиры или дачи. И при этом в
общении всегда был прост и доступен. Особой любовью и расположением у него пользовались дети. Как сейчас помню, в глубине
храма в несколько слоев постелены ковры,
чтобы маленькие прихожане, решившие посидеть или вздремнуть, не простудились,
а рядышком в уголочке возвышается что-то
вроде пеленального столика.
Крещение Розалии
Я как-то попросила отца Максима поехать и окрестить мою хорошую знакомую,
прекрасного человека, врача с большой
буквы – Розалию Иосифовну Домбровскую.
Ситуация была, скажем так, непростая:
Розалия Иосифовна от рождения была лютеранкой, но в возрасте семидесяти с лишним
лет стала настойчиво проявлять желание
принять Православие и при этом крестной
матерью хотела видеть меня. Замечу сразу,
моей заслуги в этом нет. По своей сути она
давно, а может и всегда, была православной.
Вот лишь некоторые штрихи ее биографии. После окончания медицинского
училища она поступила работать в отделение
недоношенных детей, при этом умудряясь
совмещать работу с учебой в мединституте.
Рассказывала, как сразу после пар шла на
ночное дежурство, что в принципе было
удобно, потому что и работу, и учебу она
любила безмерно, а потому не знала, что
такое усталость. Она смотрела на крошечных
малюток, раньше срока пришедших в этот
мир, и все время думала, как им помочь.
Смертность в то время (1970-е годы) была
довольно высокой. И придумала: стала реагировать на каждый сигнал ребенка. Глазки
открыл – бегом покормить из пипетки, пусть
две-три капельки, но обязательно, чтобы малыш почувствовал вкус еды. Зашевелился –
подойти, дать знать, что ты рядом. Многие
оставляют деток в кювезе, считая, что
этого достаточно, но это не так. Маленький
человечек чувствует, в безопасности он
или нет, что бы там ни говорили. Она подолгу разговаривала с крохами, читала им
стихи, молитвы, пела песни. Мало-помалу
малыши стали выздоравливать на радость
матерям. Постепенно смертность сошла на
нет, врачи начали получать благодарности,
а молоденькой акушерке Розе даже премию
выдали – 15 рублей.
После окончания мединститута ее как
врача-гинеколога направили в районную
больницу, и там пришлось столкнуться с
тем, что она проходила в любимом институте, но с чем ни разу не сталкивалась в
жизни – с «прерыванием беременности».
Абортирование в советской медицине было
поставлено на поток, в каждой больнице три
дня в неделю – абортные. На операцию не
больше двадцати минут, включая анестезию.
Она упала в ноги главврача и сказала:
– Хочу переучиваться на кого угодно.
Я люблю медицину, да что там – обожаю
ее, но абортировать не могу.
Начальница посмотрела в план и сухо
сообщила:
– Есть ставка косметолога, и кабинет
вам выделим, да и учиться много не надо –
всего-то полгода в Москве. Пишите заявление, завтра издам приказ.
Она и написала. А потом спрашивает:
– А что такое косметология?
– Выучите и нам расскажете, – последовал ответ.
В 1980-х в Тюмени первый и единственный кабинет косметологии занимался
преимущественно тем, что удалял тюремные татуировки. Спрос был огромен, люди
записывались и месяцами ждали очереди.
Приезжали из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. Особенно волновались
женщины, спешившие свести лагерные цифры, указывающие на порядковый номер в
тюремной действительности. А некоторые
сразу после освобождения ехали прямиком
к ней. Розалия Иосифовна быстро научилась
среди бывших заключенных различать «политических» и уголовников. Последние всегда
хвастались своими «подвигами».
К таинству Крещения она подготовилась
основательно: прочитала гору литературы,
выписала в тетрадку важные мысли, убрала
квартиру, накрыла стол и предстала перед
нами в нарядной одежде со словами: «Я к
этому шла всю жизнь». Разговор с отцом
Максимом завязался сразу, с первой минуты, как только он увидел ее фотографию в
белом халате.
– О, а вы знаете, мы могли бы быть
с вами коллегами. Я ведь в медицинском
учился сначала, но быстро понял, что не
мое это. А вот такая шапочка у меня есть…
Потом они ушли в комнату, и началась
самая искренняя исповедь, которую я когда-либо видела (но не слышала, двери я
накануне плотно закрыла), но даже из-за
них доносились рыдания, в которых было
столько боли и сожаления, что мое сердце
буквально сжималось. А потом, во время
таинства Крещения, когда отец Максим
спросил, какое православное имя она хотела бы взять, возникла неловкая пауза. Мы
накануне говорили о чем угодно, только не
об этом. Представить себе, что Розалия
Иосифовна, а для близких тетя Роза, может
быть кем-то другим, оказалось невозможно.

Протоиерей Максим Иванов |
Отец Максим, видя наше замешательство,
стал называть вслух имена: Раиса, Надежда, Вера…
– О, пусть будет Надежда! – решила моя
крестница. Так и приняла она Православие
с этим именем. Возникло новое чувство,
присутствие чего-то радостного, вошедшего
в жизнь. Благодать Господня коснулась наших сердец, и уже не хотелось ни о чем
разговаривать – просто сидеть и наблюдать
за своим новым состоянием.
«Я бы хотел хоть на немножко
попасть в ту Россию»
Отдельного разговора заслуживает публичная деятельность отца Максима. Он выступал против так называемых «гражданских браков», а проще говоря, сожительства. Его
проповеди заставляли прихожан плакать,
а значит, и меняться. Нередко случалось видеть, как он венчает пары, которые провели
вместе двадцать и тридцать лет, объясняя им простые истины о христианской любви,
и все он делал с непременной улыбкой, в которой так и читалось: «Я вас люблю».
По сути, вся его жизнь была проповедью.
Он мог запросто позвонить и сказать:
«Сегодня у нас праздник, маковки на церковь будем ставить, приезжайте». И мы
мчались через весь город, чтобы разделить
с ним эту радость. А еще мне довелось
однажды видеть, как отец Максим разговаривает со своей тещей. Передо мной
стояла счастливая женщина, зять которой
бесконечно благодарен ей за дочь. Она это
видела, чувствовала и буквально светилась.
Как и во всяком крепком браке, у них с
матушкой один за другим стали появляться
детки, всего четверо.
И вот в тот период, когда уже, казалось, жизнь начала выходить на финишную
прямую, в дом пришла беда, которую давно
выдавали бледность лица и некоторая заторможенность в движениях. Начало поста
в соцсетях от 4 августа выглядело так:
«Дорогие братья и сестры! 1 год и
8 месяцев лечусь. Диагноз – рак крови…»
Жить ему оставалось месяц. Вспомнила,
как он учил каяться, смиряться, говорил, что
без этого не бывает духовного роста. Что
он почувствовал, узнав диагноз?
…Когда-то батюшка открыл мне Прокудина-Горского. Давно это было. Отец Максим,
тогда еще молодой, только что назначенный
иерей, говорил:
– Я бы хотел хоть на немножко, хоть
на чуть-чуть попасть в ту Россию, которая
повсеместно была православной. Приехать
паломником в Леушинский Иоанно-Предтеченский монастырь, затопленный водами
Рыбинского водохранилища, посетить храм
в честь Успения Пресвятой Богородицы
у нас в Тюмени. В 1930 году, когда его
взрывали, он высоко поднялся над землей,
а потом рухнул и рассыпался… Посмотреть
в открытые деревенские лица, не знавшие
даже десятой доли современных грехов.
Я так невероятно скучаю по той России…
Ольга ИЖЕНЯКОВА,
Православие.ру
|